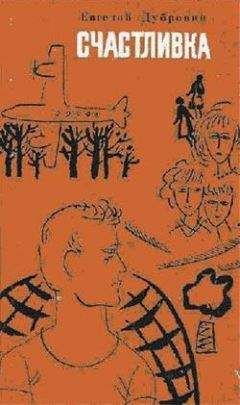Кирилл Усанин - Разбуди меня рано [Рассказы, повесть]
Она подвинулась и, совсем как мать моя, поглядывая мне в лицо, провела ладонью по волосам и тихо, с надрывом, проговорила:
— А сына своего я тоже Васей хотела назвать. Имя уж больно мягкое, ласковое. Да вот — не получилось.
Я смотрю на нее, лицо ее морщится, подрагивает подбородок, и я сижу, не смея шелохнуться, чувствуя, как накапливается в горле что-то тяжелое, что мешает дышать, говорить. Мне кажется, Маша вот-вот заплачет, уткнется мне в грудь, но она откинулась на спинку стула, безнадежно прошептала:
— Все в один день порушилось.
Она покачала головой, будто не веря еще в слова свои, и, пересилив себя, протянула руку к альбому, почти наугад, на ощупь, вынула фотографию, ту самую, где были они, Маша и Трофимов.
— Накануне того дня снимались, его родителям послать решили. — Чуть помедлив, уже твердо, удаляясь в глубину воспоминаний, заговорила. — Сюда, в поселок этот, мы приехали вместе. Я — из детдома, он — по вербовке из колхоза. В ту же осень и познакомились. Не мудрено было: учились вместе, виделись каждый день, вот и приметили друг дружку. Уж и не знаю, чем приглянулась, — маленькая, пухленькая, вроде колобка… Парень он видный, стройный, на таких девки сами вешаются. А я упрямилась еще, все что-то выказывала. А он — за мной, не отстает и в училище и в шахте. Начальство упросил, чтоб меня, значит, к нему приставили. Он взрывником уже работал, а я еще практику проходила, вроде срока испытательного. Для нас, девушек, исключение такое делали, словно жалели. Так что всюду нас видели вместе. Директор училища как-то встретил меня, сказал: «Вот она, идиллия». А я не поняла тогда, съязвила: «Меня Машей зовут». Смеху было на все училище, так и звали «Идиллия». Оно, может быть, и верно было, уж больно все по-книжному шло, вроде сказки какой. Это у меня-то, детдомовской… Не верилось даже… А он успокаивал, слова, какие положено, говорил, а однажды подхватил и от самой лавы до шурфа на руках нес… Так и любились мы, не дети и не взрослые, просто счастливые. Верилось уж — так и будет на всю жизнь, навсегда…
Маша притихла, еще ниже склонила голову, как бы отрешаясь от того, что есть, а принимая только то, что было. А может, не хотела, чтоб я видел ее лицо?
— Да, все порушилось в один день, — проговорила она так, будто еще пыталась усомниться, и, уже не оставляя за собой ничего, кроме одной лишь правды, повторила: — Именно в тот день, вернее, в тот час, когда все это случилось… Он палил, а я отсчитывала взрывы… Оставалось не много, совсем не много… И вдруг — тишина… «Неужели просчиталась?» — подумала я, но его все не было… И взрыва не было. Ни его, ни взрыва — только тишина, и страшно мне сделалось, закричала, замахала лампочкой. Вижу — спускается, бросилась навстречу и замерла, увидев его лицо — потное, в пыли и такое бледное, испуганное… «Шнур не взорвался, завалило его». — «Помочь?» — предложила я. «Ты что, с ума сошла? — крикнул он. — Там все рушится, не подойдешь. Я пытался — не вышло». — «Что же делать?» — спросила я, и его взбесила моя наивность. «Сказать надо, вот что. Пусть приходят и расчищают». — «А ты?..» Он снова закричал: «При чем тут я? Я не имею права, да!» — «А они?» Тут я представила, какой будет взрыв, если ударить обушком по капсюлю… Он затряс меня: «Да очнись же ты и не мели ерунды… И не бойся… Ну, влепят выговор, ну, с работы снимут… Не пропадем же…» Я молча встала и взяла из ниши обушок. «Ты что, рехнулась?.. Не пущу!» Он попытался вырвать обушок, и я замахнулась на него. Он отшатнулся, и я успела проскочить в лаву, но он тут же догнал меня, выбил из рук обушок и ударил. Не толкнул, а ударил… Я упала, а он навалился, захрипел: «Я за тебя отвечать не собираюсь…» Он что-то еще говорил, но я не помню. По всему телу прошла такая резь, что я потеряла сознание… А потом все сделалось безразлично. Мертвый ребенок, больница — все как во сне, кошмарном сне… Он приходил, умолял, я молчала… Он уехал, а я, я осталась. На взрывника выучилась… Так и жила… жила… Он по свету поездил, вернулся, меня отыскал, прощения просит… Исправился, мол, не тот я теперь… Как мне быть, Вася?
Что я мог ей сказать? Все это время я задавал ей вопросы, и она всегда отвечала на них, и ответы ее я принимал как истину, и если спорил с ней, то только затем, чтоб еще раз убедиться в правоте ее слов.
Потрясенный рассказом, я сидел, не смея приподнять глаза, будто я тоже был виноват в том, что случилось тогда, в тот час.
— Простить? За что? Зачем? И можно ли прощать? Все ушло, а жить надо. Разве ушло? Раз говорю, значит, не ушло, нет. А потом? Что будет потом? Совсем я запуталась. Мучаешься вопросами, а стоит ли? И кто виноват, Вася?..
Я молчал. Я не знал, что сказать.
В тот вечер я так и ушел от Маши, ничего не сказав. Она проводила меня до двери и, нагнув голову, поцеловала точно так, как делала это моя мать.
— Приходи ко мне, Вася, приходи.
Я выскочил из подъезда и быстро пошел в темноту улицы, не замечая вокруг ни огней, ни звезд, ни людей, проходивших мимо. Мысли теснились в голове, кружили ее, и никогда мне еще не было так тяжело, как сейчас.
Очнулся я уже за поселком, в степи, наткнувшись на присыпанные снегом стога сена. Искрящимися холодными снежинками повисли в небе звезды, ночная одинокая степь безмолвно дышала леденящим морозцем, и было жутко стоять одному посреди нее, вздрагивать от случайного крика заблудшей птицы.
Я повернул назад и поспешил к мигающим огням поселка, нарастающему гуду шахтного вентилятора, уверенный в том, что и в этот поздний час я встречу шахтеров, идущих на работу.
Смирнов и Петька
С самого утра облака плывут низко. Они надвигаются на шахтерский поселок медленно, округлые, свившимися клубками. Провалы между ними глубокие, темные. Придавленный тяжестью облаков, воздух сгущен. Влажный ветер несет с собой запах прелой земли. Деревья, дома и даже самые высокие терриконы и копры расплывчаты и кажутся сегодня ниже обычного. В любую минуту надо ждать дождя, спорого, какой бывает только в августе, но тяжелые облака проходят мимо, к городу, не бросив и капли.
Мы работаем молча, торопливо. Путь наш замкнут: от клети до штабеля крепежного леса — двухметровых, распиленных надвое бревен. Одни с пустыми руками спешат от клети к штабелю, другие — навстречу, от штабеля, с лесиной на плече.
Наша работа проста: заполнить лесом клеть и спустить под землю. Там такие же лесоносы, как мы, разгрузят ее и погонят бревна по транспортерам к лаве.
Смирнов, долговязый, с худым, узким лицом, дышит неровно, приоткрыв рот, сосредоточенно считает бревна:
— …Шестнадцать… Тридцать пять… Сорок…
Он точен, придирчив. Бывает, собьется со счета, придержит нас, залезет на верх клети и начнет крутиться.
Федор Гладких, парень молодой, красивый, глядя на него, смеется:
— Паша, вон, смотри, пропустил, задом прикрыл, не заметил. — Толкает меня в плечо так, что я чуть не падаю. — Машинист, беги дерни разок рукоятку, встряхни его в клети. Очухается, может…
— Перестань, балаболка. Чего понапрасну пристал к человеку? — перебивает Федора самый рослый из нас, бригадир Виктор Иванович. Он смущенно глядит на меня, как бы оправдывается: «Ты, малыш, не обращай внимания. Смирнов человек со странностями. Что тут поделаешь». Странность Смирнова заключается в том, что он всякий раз пересчитывает бревна, хотя знает, что в клети умещается пятьдесят — пятьдесят шесть лесин, не больше.
И все же нам приятно. Есть среди нас человек, который подбивает итог нашей однообразной работе. В этом прямо никто не признается, но я почему-то уверен: замолкни Смирнов — и на него посмотрят с удивлением.
Я работаю здесь уже целый месяц и каждый день слышу:
— …Двадцать четыре… сорок три…
— Всё, — вздыхает наконец Смирнов и, покачиваясь длинным, худым телом, идет к будке. Он мнет в пальцах папиросу, которую достает из-под каски.
Федор, словно встряхнувшись от сна, оживляется, весело кричит:
— Всё так всё! Кинем кости на отдых. — И уже в который раз за это утро грозит небу: — У, сволочь, просвета даже нет.
Я пробегаю мимо них в будку, даю сигнал под землю, тяну на себя рукоятку лебедки. Деревянное строение скрипит, когда клеть вскидывается вверх, но вот канат на барабане начинает раскручиваться, и клеть быстро исчезает.
Потом я выхожу к ребятам, прислушиваюсь к разговору. Обычно слышен голос Федора, звонкий, дробный, как частые удары по тонкому листу железа. Иногда вставляет несколько слов Виктор Иванович, реже всех Смирнов.
— Дай-ка закурить, мои вышли. В такую слякоть и пачки не хватает, — обращается Федор к Смирнову.
Тот молча снимает с головы каску, бережно, двумя шероховатыми пальцами, вынимает из-за подкладки две папиросы — себе и Федору. Закурив, говорит задумчиво:
— Машина с лесом что-то задерживается. Пора бы.
Ему никто не отвечает, — наверно, потому, что знают: не то думал сказать Смирнов. Да и сам Смирнов не ждет разговора о машине. Он встает, поворачивается к нам лицом и долго смотрит в степь, за которой начинается поселок.